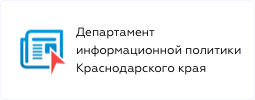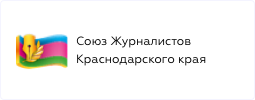В 1953 году журналист Василий Белый был девятиклассником абинской школы. Через 66 лет он решил рассказать нам о своем первом походе под руководством учителя химии школы номер один Василии Софроновиче Москаленко.
Наконец-то в поход!
Мы вышли в семь утра, если даже не раньше. И сразу же растянулись длинной цепочкой. Идущей и говорящей.
Боже, какой у нас был вид! Кто в чем: на ком рубашка, на ком курточка, а кто и в пиджаке. Ноги тоже обуты по-разному, но выполнено одно условие Василия Софроновича: голых ног и оголенных рук – это во избежание разных порезов, зацепов в терновнике, малиннике, а особенно ожогов от ядовитых растений: борщевика или ясенца на тропе, – не было. Значит, все в порядке. Рюкзаков – обычных, из сумки или мешка – я уж не говорю о сегодняшних: нарядных, ярких, неподъемных, с разными прибамбасами, – было, по-моему, не то два, не то три. У остальных – котомка через плечо, авоська в руке или даже простой узелок.
Мы шли, оживленно переговариваясь, то растягиваясь в цепочку, то сбиваясь в толпу, радостные и довольные: наконец-то мы идем в поход! Причем в многодневный, к Черному морю! Наконец-то наш учитель Василий Софронович выполнил свое обещание: мы идем! Идем сами, без своих учителей и вожатых, надоевших и в школе. Мы уже девятиклассники – какие нам вожатые? Правда, нас таких было трое: Саша Верховодов и я из нашего класса и Нина Лисицына – из параллельного. Так, по крайней мере, помнится мне. Остальные – из восьмого. Есть – не то два, не то три человека – и семиклассники. Это подшефные Верховодова, он за них «несет персональную ответственность». Так он говорит всем. Хотя всю эту ответственность несет Василий Софронович. Он, разумеется, тоже учитель, но это не считается.
Наш отряд – пестрый и, как бы сказали сейчас, разновозрастной – представляет собой не туристскую группу, а скорее нечто среднее между самодеятельной научной экспедицией – девочки накануне все тарахтели: «будем гербарий собирать», а «коллекцию камней – обязательно» и «бабочек, бабочек – непременно», – и партизанским отрядом из подростков – это был удел верховодовских подшефных и его самого; они то и дело шептались о разведке, захвате в плен, сборе сведений.
Василий Софронович всю эту дребедень – и ту, и другую – выслушивал спокойно, я бы даже сказал, удивительно спокойно, – и только время от времени напоминал, что надо взять на завтраки. Помню, я никак не мог взять в толк: во-первых, сколько дней мы будем в пути, а во-вторых, будут ли у нас обеды и ужины? Но он твердил только про завтраки.
Мы не были заранее знакомы со списком идущих, не знали – все мы пришли или кто «проспал»; мы были рады, что мы идем. И шли…
Его хватало на всё
«Мы были рады…» Написал я эту фразу, и вспомнил, словно все это было не в 1953-м, а вчера… Правда, как перед глазами, стоит и сам наш Василий Софронович, и его отношение к нам. Он был доброжелательным к нам и очень заботливым. Он носился по школе, размахивая пустым рукавом (правую руку он потерял на фронте), – всегда в заботах, в хлопотах. Он преподавал нам химию, и по каждому нужному и не нужному – это сегодня я так думаю, а тогда, я понимаю, все его опыты для нас были открытием, не меньше – случаю производил опыты. И сам, и нашими – к нашему же восторгу – руками. И на все его хватало. А как он нам преподавал биологию! Тут с опытами, с реакциями сложнее обстояло дело. Таблицы, конечно, хорошее пособие. Но этого мало.
И Василий Софронович ведет нас (а нас, только девятых, к примеру, в школе в те годы было не то три, не то даже четыре класса!) сегодня, завтра других, а послезавтра третьих – в луга, в леса, на речку. Он все о цветке рассказывал и показывал нам на цветах в поле, о строении листвы и значении разного ее состояния – в лесу, прямо на ветке, не ломая ее у дерева. У реки мы многое узнавали от него о нашей речной рыбе – какая, когда и где ловится, где зимуют не только раки, но и разные породы рыб, каких размеров достигает та или иная. Мой отец и до войны, и после рыбачил наметом, рассказывал мне много о рыбе, но я узнал от Василия Софроновича куда больше, чем от отца. Мы слушали, просто балдея, – Василий Софронович, видно, сам был знатным рыболовом. А лягушки!.. Фу, гадость!.. Бр-р!.. А Василий Софронович, запустив руку в омут, огромную, пятипалую, шевелил там, в воде, в муляке и водорослях, и вдруг вынимал, к нашему удивлению и восторгу, ее из воды, а на ладони у него жабуринье – то сотни икринок, то, чуть позже, через несколько дней – юркие и скользкие головастики… Попробуй после этого не рассказать, как размножаются те же лягушки!
Но мы знали его и другим: с его хлестким, как выстрел, от которого вздрагивал и на время терял дар речи любой, ударом указкой по фанерной столешнице, если в классе был шум, или с сакраментальным: «Под выключатель!». Но это когда или все выходят из-под контроля, или мешает работе кто-то конкретно. У нас в классе чаще всего слышалось: «Тюрин, под выключатель!».
Под июньским солнцем
И вот мы идем. Перейдя речку по деревянному мосту, построенному пленными немцами и румынами (сейчас на этом месте болтается «висячий», пардон, подвесной пешеходный мостик), наша группа пошла вдоль речки.
Девчонки, как юные козы, разбрелись, разбежались по огромному зареченскому пустырю, стараясь найти редкие цветы и травы, партизанские разведчики сразу же занялись изучением достопримечательностей – в частности, буровой, стоявшей в ста метрах от реки; мы, постарше, в шутку начали распределять обязанности. А Василий Софронович, глядя на бегающих ребят, повторял:
– Меньше бегайте, мальчики и девочки, – нам идти далеко и долго.
– Хорошо, Василий Софронович, – мы поняли! – кричали «походники» в ответ и снова бежали – кто куда.
Группа напоминала стадо молодых козлят: все прыгали, почуяв свободу и волю. Даже мы, постарше – шутка ли, через год «прощай, школа», – и то начали впадать в детство. Нина Лисицына вдруг заговорила учительским голосом (через несколько лет, окончив пединститут, она придет в эту же школу работать учителем и посвятит этому всю жизнь), а мы вдруг стали прикидывать, как это здорово, что идем вдоль реки. Разведаем – ну вылитые «партизаны», честное слово! – фарватер, узнаем, откуда можно будет спуститься на плотах. Я не помню, кто первым начал «разведывательные» речи, но мне они, что называется, были по душе: я еще помнил о задуманном нами в шестом классе походе под парусом – по Кубани, затем по Азовскому морю, – но так и не состоявшемся.
Кстати, много лет спустя, в соседней школе нашелся и учитель, и смелые ребята, которые на байдарках спустились по реке Абин – то ли в плавни перед Кубанью, то ли в уже только что построенное Варнавинское водохранилище. Причем не только проплыли десятки километров, но перед этим сами сделали себе байдарки. Очень жаль, что у нас тогда не оказалось ни своего Евгения Григорьевича Болдырева, ни хотя бы нового Толика Ермакова, способного разбудить нашу фантазию.
Увлекшись разговорами о плотах, мы не заметили, как вдруг Василий Софронович спутал наши планы. В районе теперешнего моста на объездной дороге он увел группу резко на восток, на знакомую ему тропу. Там мы сразу же у первого холма попили холодной, до ломоты в зубах, ключевой воды и пошли по еле приметному хребту в горы.
Тропа где просто исчезала в ожиннике, и тогда приходилось сквозь него продираться, а где превращалась в отличную старую хуторскую дорогу, которой давно не пользовались, и она заросла.
Ярко светило июньское солнце, дул легкий ветерок с гор
(«с моря», поправил нас Василий Софронович), подуставшие девчонки уже не бегали далеко за травой для гербария. Да, собственно, и бегать не надо было – рви прямо с тропы, одно растение лучше другого.
На первом же привале девчонки выпотрошили все, что собрали, очистив огромную папку, и спрятали собранное под приметным им кустом, клятвенно заверив Василия Софроновича, что, как только вернутся из похода, отдохнут – тут, помню, Василий Софронович тонко и лукаво улыбнулся, – так сразу же придут за этим «богатством». Кто их знает, возможно, они так и сделали, девчонки. Что с них возьмешь? Но я того гербария не видел. Как, впрочем, и того, что собирали, периодически часть собранного выбрасывая, – уже без клятвы прийти и забрать, – в десятом мы уже другое изучали.
Здесь могут быть мины…
В первом же лесу мы столкнулись с зарослями папоротника, многие впервые, и выслушали по этому случаю волнующий и запоминающийся рассказ учителя о цветении этого удивительного растения.
Потом лес чередовался с кустарником, а кустарник – с сенокосами. Трава была густая и высокая – в пояс Василию Софроновичу, а нам – и повыше. А запах валил с ног.
Вот где было разнотравье! Папка для гербария скоро не просто потолстела и округлилась – она категорически не стала завязываться тесемками. А девочки, убегая не далее десяти метров от тропы, несли и несли все новые и новые образцы. И каждый лучше другого, а цветы – все ярче и ярче. И опять папку серьезно потрошили наши «естественницы», и что-то выбраковывали и куда-то прятали. Может, до нового похода – кто их поймет?
А разведчики находили и патроны, и консервные банки, и старые блиндажи, а однажды принесли даже штык. Правда, заржавевший.
– Не лазьте, куда не следует, и не трогайте, чего не знаете! – пошумливал на них Василий Софронович. – Здесь могут быть и мины…
– А где? – тотчас задали вопрос предшественники «юных следопытов и поисковиков». – Покажите, а?!
И, кто знает, возможно, именно из-за этого он увел группу – так птица уводит путника от гнезда с птенцами, – от возможного места боев. Было это почти у вершины горы Шизе. Мы, хотя раньше договаривались посидеть на ней, ушли, обогнув ее слева, по наезженной дороге. На вопрос: «А как же?», Василий Софронович ответил, не моргнув глазом:
– Некогда, ребята, мы опаздываем…
Кстати, о том, что вокруг шли бои всю осень и зиму 1942—1943 годов, мы-то знали – мы ведь пережили оккупацию, – но рассказывать нам тогда Василий Софронович ничего не стал. Фраза о минах у него, скорее всего, вырвалась случайно, о чем он, по-моему, даже пожалел.
Еще выходя из станицы, мы шутя предположили, кто кем будет в походе. Сашка Верховодов свою деятельность назвал сложно, что-то вроде обеспечения информации. А мне, учитывая мою газетно-редакторскую работу, он предложил стать летописцем. Я и ухом не повел: летописец-то летописец, но я также помнил, что еще в шестом классе готовился возглавить группу. Скажу сразу – летопись от меня никто не потребовал, что и лучше. Хотя, как видите, слово, между прочим, Сашкино, я сдержал и предлагаю вам мой отчет о походе.
А так я шел и сожалел, что никто из той, из шестого класса, группы сейчас не пошел: у каждого нашлось дело дома. Справедливости ради, скажу, что еще через несколько лет, уже после демобилизации, я одного «своего» – Толика Рязанова, уже студента, сводил все-таки в горы и к Черному морю. И он остался доволен.
Где пацаны?..
Странное дело, но я не помню, как мы прошли, спустившись с гор, Эриванскую. Насколько я помню каждую встречу в этой горной станице в более поздние походы, когда я – руководителем – ходил, и много раз, сначала с сыном Андреем и его командой, затем с группой из класса дочки Тани, настолько не помню эту, первую встречу. Представляете, как вроде ее и не было. Ну, ни одной детали, никакой зацепки.
Как мы так проскочили от подножья Шизе к началу Пушкарской щели, я не представляю. Но хорошо помню, что мы шли по реке, и в ней была вода, и мы, помня слова Василия Софроновича о том, что «на Чубатой воды нет и не будет до Адербиевки», много пили. Пили, дураки, в запас, чтобы потом не хотелось. Пили, подчас не вынимая из сумки кружки, встав на четвереньки, просто припадали к воде и «дули».
И вскоре дело кончилось тем, что мы при ходьбе в гору взмокли на жарком солнце, пот струился по нашим лицам, заливая глаза. Видя это, Василий Софронович до времени объявил привал. И мы не просто сели, мы повалились на траву, задыхаясь и не видя ничего вокруг.
Правда, не все. «Партизаны» почти сразу вскочили – они вообще были непоседы – и заинтересовались вершиной Чубатой горы, что темнела лесом правее нашей тропы. Лес и в самом деле на ней смотрелся чубом, как на богатырской голове. Верховодов, думая, что он единственный командир над ними, отпустил ребят. Они убежали.
Когда оставшиеся успокоили сердцебиение и пульс, чуть просохли, отерли с лиц пот и успели даже поджариться на горном солнышке, Василий Софронович засуетился: пора идти дальше, а в группе «некомплект».
Я впервые увидел его недовольным. До сих пор он был вполне благодушным, когда мы где-нибудь у земляники или родничка хоть чуть задерживались, он просто говорил:
– Ребята, пора – нам засветло надо быть в Адербиевке, – и это были слова не руководителя, а просто старшего товарища.
Теперь он жестко спросил:
– Где пацаны?.. Куда подевались эти «партизаны?»
Саша, не тушуясь, ответил, что они ушли на Чубатую.
– И долго нам их теперь ждать? – строго спросил учитель.
Саша сбросил свою котомку.
– Я сейчас их найду, – сказал он, уже явно смущаясь.
Василий Софронович посмотрел на Сашу и сказал:
– Ладно, сиди, – он помолчал. – Подождем, – добавил уже спокойнее. – Но это в последний раз!
Когда ребята прибежали и стали горячо рассказывать Сашке – откуда им знать, что тот уже схлопотал нагоняй, – о том, что они увидели, Василий Софронович отчитал и их. Вроде бы и отдельно, но в то же время как бы и вместе с Сашей.
– Если бы это было в Эриванской, – крайне жестко сказал он, – я бы всех вас отправил домой. Мне такая партизанщина не нужна.
Мы насупились, но вздохнули с облегчением: терять группу – я это пойму значительно позже – всегда неприятно, грустно. И все дружно засобирались идти дальше.
Минут пятнадцать (за точность, естественно, я не ручаюсь) – и мы на перевале. Оглядываемся назад, на Эриванскую, чьи хатки видны далеко внизу, машем ей рукой – как будто в станице нас кто провожает, – говорим ей «до свидания».
Кулеш в Адербиевке
… И был спуск – в Адербиевку. Минут десять «партизаны» шли «возле ноги» – так им было приказано, после того как Василий Софронович смягчился, – у Верховодова. Уловив одним им ведомый момент «смягчения», пацаны сразу прыснули в стороны: на поиски родника, лучшей тропы, еще чего-то.
Когда вошли в Адербиевку, солнце уже село. Василий Софронович провел нас к школе – старому зданию в тенистом от грецких орехов дворе. Велев располагаться, он куда-то ушел, «минут на десять, сказал, не больше».
Мы сбросили свои котомки. «Партизаны» ушли в разведку – и сразу же нашли и доложили, где вода и туалет. А мы – мы ждали.
Станица представляла собой вытянутую вдоль ручья – он гордо тогда назывался речкой Адерба – улицу. В сгущающихся сумерках слышны были разговоры – наши и соседей, – мычание коров и хрюканье свиней. Тянуло дымком от летних кухонь.
Василий Софронович пришел. И не один, а с женщиной. Она открыла один из классов сказала, что там можно спать (мы все, правда, легли спать, постелив спортивные маты, на крытой просторной веранде), а главное – она вынесла большой котелок, и Василий Софронович сказал, что сейчас мы будем варить кулеш и кипятить чай. Во дворе этой школы, оказывается, была и летняя печь, которую почему-то совсем не заметили «партизаны», за что тут же получили замечание от Верховодова: он сказал, что разведчик должен замечать все, даже то, что и не видно. Известие о кулеше мы встретили криками восторга.
Услышав про кулеш, женщина вынесла нам еще и алюминиевые миски, по числу туристов. Пожелав аппетита и доброй ночи, на что мы все почти прокричали «спасибо!», она ушла.
Через пять минут печь уже грела воду в котле, девочки ушли к реке мыть миски. Потом, усевшись на краю веранды, мы уплетали кулеш – по-моему, он был даже и с салом, – пили чай, с заваркой и даже сладкий, и долго беседовали.
Первыми начали укладываться девочки, а уснули раньше всех «партизаны».
– Набегались пацаны, – подытожил день Василий Софронович, — намотались.
Устроившись с краю «покота», как бы отгородив нас от мира и защищая, на всякий случай, он пожелал нам доброй ночи и добавил:
– Не засиживайтесь за разговорами. Завтра рано вставать. И подъем будет трудным. В гору…
Утром – очередная приятность. Женщина принесла ведерко молока. Всем досталось по кружке.
Тогда и много лет спустя
Детали из памяти стираются. Я не помню, например, собирали ли девочки камни для коллекции, а тем более – бабочек. Но подъем на Маркхотский перевал помню до сих пор. Мы почему-то потеряли тропу. А дорога вилась вдоль горы, огибая каждый выступ и поднимаясь долго и медленно. И мы ее просто бросили, сказав, что по ней мы и до обеда не поднимемся, поэтому «брали» перевал в «лоб», сначала по старой тропе, а потом прямо по бездорожью. Хватались за тонкие стволы подроста, путались, а часто и сползали вниз в прошлогодней листве, лежавшей толстым ковром, карабкались на четвереньках… Взмокли, пока добрались до гребня, запыхались.
Наконец, мы на гребне. Вдали – море. А здесь, на гребне, ветер. Сильный, прямо с ног валит. И Василий Софронович, бегающий перед нами и, по сути, сталкивающий нас с перевала, назад.
– Ребятки! – кричал он. – Оденьтесь, что у кого есть! Простынете! Оденься, ну! Успеешь увидеть море, куда оно денется!
Мы понимали, что море никуда не денется. Это известно людям было еще до новой эры, будет и после нас, но все же увидеть хочется поскорее. Да еще первым!
И вот мы, закутанные в свои пиджачки и курточки, нахохлившись, сидим на гребне, балдеем. Молча!
И Василий Софронович заговорил, тоже помолчав. Кто знает, может, он тоже балдел? Очень, знаете, может быть! При его-то темпераменте, азарте, эмоциональности!..
Что мы тогда знали о нем? Громкоголос и быстр. Эрудирован и эмоционален. Я счастлив, думая, что того же мнения и все, кто был в том походе, летом 53-го. Мы узнали нового Василия Софроновича.
А еще я чуть-чуть узнал о нем много-много лет спустя. За несколько недель до его смерти мне довелось с группой учителей первой школы побывать у него дома. Он был стар, меньше ростом, куда менее подвижен – возраст, нездоровье… Но суетился, принимая нас, – жил он, по-моему, один.
Его коллеги по работе стали говорить о том, как школе не хватает его, Василия Софроновича. И это, я полагаю, было правдой. Учителя все хорошие, каждый по-своему, но такого, как Василий Софронович, такого другого нет. Это я, как бывший его ученик, заявляю.
Он слушал их речи, лукаво-снисходительно улыбался, кивал головой. А потом с горькой иронией рассказал, как он стал учителем.
Повесть о том, как ему закрывали дверь к ученикам, как не разрешали учиться, как кололи глаза его происхождением (из казаков, видно, был, из зажиточных причем), как утверждали, что он и права-то такого – воспитывать! – не имеет, как предупреждали, что не дадут ему калечить молодые души, что он когда-нибудь плохо кончит, – в общем, слушал я постаревшего, похудевшего, больного, но душой по-прежнему нашего Василия Софроновича и думал: боже мой, страна, ну как же ты так с людьми?!
А тогда, на перевале, дав нам вволю «набалдеться», наглядеться на море и на раскинувшийся внизу, у бухты, скромненький городок Геленджик, обсохнуть и успокоиться, он повел нас вниз по тропе, прямо в город.
Запомните его имя
И вновь была школа, и ночлег в ней, и барахтанье в море – оно оказалось рядом со школой, сразу через улицу, – и прогулки по набережной, и обеды в столовой — тоже рядом, через улицу, на втором этаже, по-моему, магазина, – и поездка на катере до Новороссийска, когда ветер дует тебе в лицо и окропляет его солеными брызгами, а глаза, глаза сквозь эти брызги у каждого ну просто сияют от радости, и монеты, брошенные в воду, чтобы вернуться. А что, двое из нас – Саша и я (о других просто не знаю) – немало дней и ночей потом провели возле него, – все это помнится и по сию пору.
Но я хочу сказать о другом. Просто обязан. О Василии Софроновиче. Я много лет ходил в походы руководителем, видел многих других, удивительно талантливых, руководителей – и в походах, и на слетах. Многих хорошо знал лично. Уважаю. И все-таки хочу сказать: равного по такту, по заботе, по вниманию, по эрудированности, наконец, Василию Софроновичу – не вижу.
Можно прекрасно знать маршрут и правила поведения на тропе и неукоснительно соблюдать их, можно обожать дисциплину и по пунктикам добиваться ее, держа группу в ежовых рукавицах и не допуская хоть какого послабления, можно знать, наконец, массу сведений и легенд, мифов и просто баек, быть энциклопедически начитанным и сыпать, как из рога изобилия, все это на головы идущих, можно…
Но быть отцом, да что отцом –матерью всей группе, – это… Я еще понимаю вечерний кулеш – наверное, он был запланирован заранее, наверное, в полевую сумку был сунут мешочек с пшеном и унесен из дому шмат сала, чтобы устроить нам «пир богов» после трудного перехода. Наверное. Но утреннее молоко… Я прекрасно понимаю, что женщина принесла его не потому, что вдруг прониклась к нам, ребятам, которых она увидела первый и последний раз, материнской любовью и жалостью, – нет, иначе мы пили бы молоко уже вечером. Значит, это заслуга Василия Софроновича, значит, была его просьба, его «заказ». Причем заслуга неожиданная, внезапно вызревшая – помните, и дома, в канун похода, и потом он неоднократно напоминал нам о том, чтобы мы взяли пищу «для завтрака». Значит, мысль напоить нас молоком – в чужой станице, бесплатно – появилась у него уже здесь, в Адербиевке. Возможно, под мычание коров в вечерних сумерках. Скорее всего, стоимость молока он оплатил тоже…
И уж совсем особый разговор о его поведении на перевале. Это надо было видеть. Он перебегал от одного к другому, придерживал нас, осаживал, требовал, просил, умолял не торопиться. Он то повышал голос до крика, то понижал до шепота. Особо ретивых, а нас таких было немало, даже, схватив рукой, прижимал к земле. И застегивал наши одежонки, закутывал наши тела, нахлобучивал кепки и шапки. Заметьте: одной левой. А мы были непослушны и нетерпеливы – нам хотелось выскочить, распахнуть одежду, сорвать кепку с головы и заорать во весь голос:
– Море!.. Здравствуй, море!..
А Василию Софроновичу надо было во что бы то ни стало привести нас из похода не только здоровыми, но и окрепшими, загорелыми, отдохнувшими и повзрослевшими. Он ведь знал, что мы – дети военного лихолетья, все мы недокормлены, недолечены, что к нам в любой момент может «прицепиться» любой недуг, любая напасть.
На дворе стоял 1953 год, мы десять лет уже жили на освобожденной земле, но что мы знали из лекарств? Хинин, пожалуй… Когда года за три до того заболел воспалением легких мой брат Николай, мать его лечила, по чьему-то совету, жиром убитого кем-то по просьбе матери ежика. А самой лучшей, самой полезной, по словам врача, едой для него был лук, поджаренный на сливочном масле. И такими «обласканными» жизнью, пожалуй, были мы все, во всяком случае, повальное большинство. Я об этом могу судить по нашей реакции – во-первых, на кулеш, а во-вторых, – на молоко. Для нас и то, и другое было каким-то чудом – в наших котомках были, как правило, ломоть хлеба да пара вареных картошек; пара яиц или кусочек сала считались сверхбогатством.
И я думаю, случись на том перевале, в этот ясный день, когда внизу искрилось, зеленело, синело невероятное море и нас ждал залитый солнцем городок Геленджик, так вот, случись здесь дождь, град или даже снег, Василий Софронович сгреб бы нас всех в кучу и, растопырясь над всеми нами, закрыл бы нас и от дождя, и от града, и от снега. Одной своей сильной, огромной пятипалой ладонью. Левой. Правой, как мы знаем, у него после фронта не было. Одной левой остановил бы любую напасть, любое ненастье.
Таким он был. Думаете, только в моем воображении? Возможно, Но этого разве мало, если и сейчас, спустя годы и годы, я думаю так же? А вы разве думаете не так?
Земля тебе пухом, учитель!
Помните, друзья: его фамилия Москаленко, Василий Софронович…
Мы вышли часов в семь утра, если даже не раньше…
В. Белый, заслуженный журналист Кубани